 |
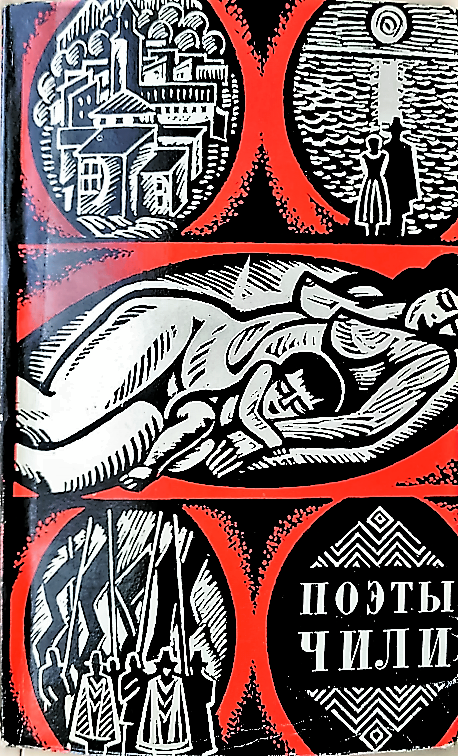 |
|
| ПЕДРО ПРАДО (1886-1959) |
* * *
За словом слово я возвёл чертог2. И боль мою, птенца без оперенья, я выпустил в чертог стихотворенья, чтобы щеглёнок позабыться мог.
И встрепенулся жалобный комок, почуял крылья и обрёл паренье: чудесное свершилось исцеленье в гнезде, сплетённом из певучих строк.
Так боль – уже не боль, когда она преобразилась магией словесной и в стройную строфу заключена.
И как печаль себя венчает песней, тернистый стебель рвётся в высоту, Чтоб алой розой вспыхнуть на кусту.
* * *
Когда, покончив с повестью земною, соединю разрозненные главы, без мишуры быстротекущей славы предстанет жизнь моя передо мною.
Смирится гордость, пышность оскудеет, уймутся страсти, буйные вначале, и безраздельно сердцем овладеет свободное дыхание печали.
Огонь моей любви уже погас, и от друзей далеких нет привета. Моим стихам не пережить поэта:
подстерегает их забвенья час. Тогда познаю вечность, обнаженный, наедине с печалью сбереженной.
* * *
Какое надо мной висит заклятье, что людям непонятен мой язык и неизменно ставит их в тупик открытое моё рукопожатье?
И никому не в силах подражать я: ни мальчик, ни мужчина, ни старик мне не сродни. И к мысли я привык, что недоступна мне земная братья.
Ухмылочку, недоумённый взгляд пошлют – и мимо норовят прокрасться. Как мне настроиться на этот лад?
Да я и сам уж перестал стараться Проникнуть в непонятный мне уклад И примирился с ролью чужестранца.
СТАРУХИ НА ДОРОГАХ
Тени дорог, старухи! Призрачные виденья! Тощие псы за вами тащатся вашей тенью.
Шею сгибает ворох: хворост, сухие лозы, тяжкие – точно хворость, горькие - точно слёзы.
Саван дорожной пыли виснет над головами, и земля зазывает, расступаясь под вами.
Ветер рвет из охапки виноградные сучья, – шерсть на собаках дыбом, скалится челюсть сучья.
Лозы… Вино былое бродит в памяти глухо. Семени по дороге – досеменишь, старух
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ
Это было на самом исходе пепельной осени южной в дальних затерянных архипелагах.
Сумрак быстро сгущался, и рыбаки Поднимали дряхлый, залатанный парус.
Работали молча и споро, опережая ночь, опускавшуюся на немые, недвижные воды.
Пурпурные облака пролетали над самою мачтой, и рыбами их отраженья метались под килем баркаса.
Паруса раздувались, подобные крыльям Большой и уверенной птицы, парящей в сумерках красных.
Я был среди них, рыбаков, в суровой ватаге, что бродит в ночи, охраняя покой океана.
И кто-то сумел разглядеть, как с юга на горизонте в лиловом тумане возникла крылатая стая.
Мы двигались к птицам, а птицы летели навстречу; они проносились над нами и с криком вдали исчезали.
Волна за волной набегали всё новые стаи, - зима гнала их на север.
Бесчисленной вереницей они растянулись по небу, от края до края; текли, как звучащая арка: их резкие крики сливались в единую песню.
А ночь между тем поглотила и небо, и море, и судно, и тех, кто на судне.
И птицы пропали во тьме, но по-прежнему слышалась песня.
Они продолжали полёт, не видя товарищей рядом, и думалось мне: так летят одинокие листья, гонимые ветром… И ночь их рассеет…
Но птиц перелётных сплотила во мраке их песня, И было всесилие ночи над ними не властно.
И бились, как песня, сердца рыбаков на баркасе единой тревогой, единой надеждой, единым дыханьем.
И сердце моё слилось с сердцами друзей молчаливых, и звук его потонул в согласном и трепетном хоре.
