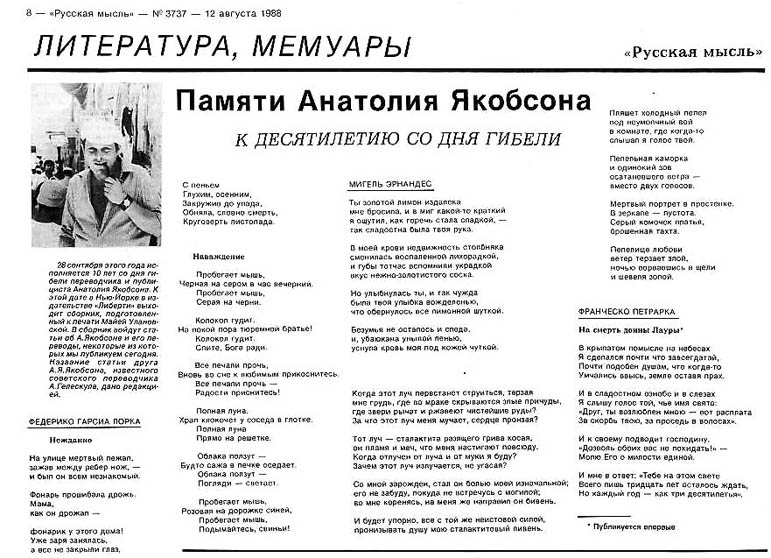|
О литературе |  |
 |
Переводы |  |
 |
Стихотворения |  |
 |
Публицистика |  |
 |
Письма |  |
 |
А. Якобсон о себе |  |
 |
Дневники |  |
 |
Звукозаписи | |
| О А.Якобсоне |  |
 |
2-ая школа |  |
 |
Посвящения |  |
 |
Фотографии |  |
 |
PEN Club |  |
 |
Отклики |  |
 |
Обновления |  |
 |
Объявления | ||
Анатолий Гелескул
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ БЫЛА ЕГО ПРИСТАНИЩЕМ НА ЗЕМЛЕ1)

Анатолий Якобсон себя как переводчика недооценивал и, боюсь, не слишком ценил. Сколько помню, чужие работы занимали его больше своих - там он находил искру Божью, у себя же не находил, либо сомневался. Было в этом душевное бескорыстие, которое ощущалось и покоряло в нём с первой встречи. Была, конечно, и присущая лишь одарённости неуверенность. И была необыденность, особинка, знак личности. В пору, когда мы встретились (начало 60-х), у литераторов, тем паче молодых, в моде было гениальничать. Якобсона же от самоуверенности и то передергивало.
Одна поэтесса как-то спросила у него:
- Почему вы не член Союза? - Вопрос слишком несуразный, чтобы отвечать; однако, он ответил - и почти торжественно:
- В Союзе писателей состоят писатели, а я даже не графоман.
Кажется литературной шуткой. Но шутка невесёлая, до сих пор ее вспоминаю с непонятной горечью и угадываю знакомый отзвук. Якобсону нравились стихи Василия Пушкина - не «парнасского дяди» Василия Львовича, а своего приятеля, стихотворца безвестного, зато знаменитого боксёра
Я не поэт и не писатель
И даже не руководитель,
Но говорю вам:
Всё бросайте
И уходите.
К месту или нет, но вспомнилось, как поют на глухом хуторе бунинские охотники - «прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадёжной удалью». Тоска, как песня, не исчерпывается смыслом.
Много позже, когда Якобсона приняли в Пен-клуб, он комментировал это событие, словно оправдываясь:
- По уставу членом может быть любой способный и честный литератор. Я не бездарен и уж тем более не бесчестен.
Я не берусь, да и не вправе, гадать, каким было его литературное самосознание и какое место в нем занимала переводческая работа, - просто расскажу о ней что помню. Благодаря ей мы встретились и не раз потом работали рука об руку, в одних книгах.2)
Почему вообще он переводил? Речь не о первоначальном побуждении - оно бывает разным и часто случайным. Но само переводческое дело требует терпеливости и известного смирения. Явно не эти невзрачные добродетели отличали Якобсона. И все же он переводил. Даже накануне отъезда переводил Петрарку, без малейшей надежды напечатать, и продолжал переводить, тоже без малейшей надежды, вне России. Его отношения со словом были любовью, а любовь «долго терпит и никогда не перестаёт».3) Но думаю, что и эта беззаветность ещё не все объясняет.
Как-то он заговорил о переводческом семинаре, куда ходил не один год, и сказал о своих учителях:
- Они внушили главное: «Пиши как можешь - переводи лучше, чем можешь».
Учителя у него и вправду были на зависть: Мария Петровых и Давид Самойлов - любимые поэты, близкие люди, почти родные, и в прямом смысле учителя (вели упомянутый семинар). Со своим символическим учителем - Пастернаком - он, по-моему, ни разу в жизни не встретился.
Убежден, однако, что сказанное было не цитатой, а его собственной формулой. Это не литературная декларация - «лучше, чем можешь» применимо ко всему - и не декларация вообще. Стоит задуматься, кого он переводил. Бесприютный Мицкевич, нищий Верлен, казнённый Лорка, угасший в тюрьме Эрнандес. Стихи, оплаченные жизнью, - он и принимал их в себя как чужую, вверенную ему жизнь. Обходиться с ней «хуже, чем можешь», полагал бесчестным.
Среди его лоркианских переводов выделяется один - "Нежданно"; для меня он стоит рядом с переводами Цветаевой. Это маленькое стихотворение - его безуспешно переводили и до, и после Якобсона - трудно своей полифонией, сплавом песни и разговорной речи, тревожных ночных голосов, но главное - своей подлинностью. Мог бы Якобсон перевести, если бы смотрел на убийство иначе, чем Лорка, - отвергая его, но сознанием, а не всем своим существом? Помню, как подробности гибели Лорки, в то время скудные, вызвали у него слезы.
Перевод - дело любовное, иначе он безрадостен. Надо сказать, мы тогда не числили себя переводчиками, тем более - профессионалами. Говорю «мы», потому что ощущение было обоюдным - не берусь его прояснять, но в общем не чувствовали мы себя «почтовыми лошадьми просвещения». Скорее любопытными стригунками, отбившимися от табуна. Переводы были странствием, походом в неведомый край - и шли не за добычей, а за обострённым чувством жизни. Все кропотливое и тягостное, наверно, забылось, а вот азарт и привкус приключения памятны. У нашего поколения, в сущности, не было детства, зато юность - долгая, затяжная; должно быть, и мы были моложе, чем казались. Понятие «рабочий стол» и даже «работа» отсутствовали в сознании; всё делалось на ходу, когда угодно и где угодно. Помню, как на полночной подмосковной платформе, заляпанной мокрым снегом, окончательно сложилось верленовское "Наваждение". Мы долго ждали поезда, и Якобсон, спиной к дождю, хмуро бормотал последнюю строфу - перебирал варианты арестантской побудки. И все как-то не звучало: слишком резко, или слишком натурально, или слишком по-русски. Вдруг он произнес, уже в голос: «Подымайтесь, свиньи!» - нам стало хорошо, а запоздалая, вроде нас, фигура на перроне вздрогнула. Происходило это, по-моему, в Опалихе. Надвигалась весна, потёмки хлестал сырой ветер, и было бодро и неуютно, как перед дальней дорогой. Тогда она казалась долгой.
Это стихотворение двойной яви, и мнимая простота его коварна. До Якобсона его переводил Иннокентий Анненский и, кажется, даже не догадался, что оно тюремное.
Не знаю, когда и где переводилась "Осенняя песня", но, судя по напору ветра - не в четырёх стенах. Этот перевод с его блоковской гибельностью И.А.Лихачев, великолепный знаток европейской поэзии, назвал «густо-талантливым». Однако, в книгу его не включили как слишком вольный (т.е. смелый, говоря по-человечески).
И Верлена, и других он переводил с подстрочником (знал английский, но, по-моему, английских стихов никогда не касался). Перевод с подстрочника для меня по сей день загадка; видимо, здесь у каждого свой секрет - и у него был тоже. Секрета не знаю, а сами подстрочники помню хорошо, Якобсон обходил с ними добрый десяток друзей и знакомых, из числа знавших язык. Чисто географически я оказывался обычно в конце этой очереди и видел уже не подстрочник, а какой-то ветхий манускрипт с обозначением пиратского клада. Всё было исчёркано то мелким, то крупным, то гигантским почерком, испещрено кружками, стрелками, какими-то средневековыми нотными знаками - не то партитура, не то криптограмма. Как он в этом разбирался - Бог весть. Подозреваю, что никак; к тому времени, когда подстрочник становился окончательно невнятным, всё уже было в голове, а из невнятицы стройно вырастал сонет.
Не помню, чья строка: «...бумажный цветок, как сонет в переводе». Действительно, какая-то заклятая форма - ровным счётом ничего головоломного, а переводы спотыкаются на второй строфе и не чают дохромать до конца. А ведь сонет возник, наперекор куртуазным вычурам, как торжество простоты и чем только не оборачивался - письмом, прокламацией, даже теоремой (и такое бывало). В пьесах Лопе сонетами ведут диалог влюблённые.
Видимо, в Россию сонет пришел слишком поздно, в не лучшую для себя предромантическую пору, да так и остался иностранцем. Всё, что вросло в почву, преображается: английский или французский сонет самобытны. Наш скопирован, и в этом, наверно, дело. Быть может, собственно русская сонетная форма, созвучная природе языка, - это онегинская строфа. Но она неотчуждаема (хотя двумя-тремя веками раньше могла стать каноном).
Отступление невольное, но необходимое, потому что переводческая вершина Якобсона - сонеты, и здесь у него мало соперников. Это знаменательно. Стиховая культура и техника бесспорны, но в самом обращении к сонету сказалась, думаю, скрытная, во всяком случае не самая явная черта его натуры - внутренняя собранность. Она не бросалась в глаза - размашистые краски как бы скрадывали твёрдый рисунок личности. Он вообще любил ясность, логику и даже в обыденной речи был афористичен. Но это подробности внешние, и не хотелось бы упрощать. О себе он рассказал сам - книгой о Блоке. Мне кажется, многое там понято через себя, и особенно это: «Трагическая раздвоенность, боль разрыва, есть тоска по гармонии».
Кстати, сказанное о русском поэте справедливо и для испанского, которому Якобсон-переводчик отдал, наверно, больше души, чем кому-либо. Для сонета Испания стала второй родиной, за шесть веков - море сонетов, и лишь пять-шесть недоступных утёсов над волнами. Один из них Мигель Эрнандес, прямой - через века - наследник Гарсиласо и Кеведо. Свои сонеты он создал молодым, а случилось так, что они ненадолго, но продлили ему жизнь. Силясь отменить смертный приговор поэту, друзья прибегли к ватиканским связям и чтобы внушить, о ком, о какой жизни просят, предъявили книгу сонетов. Приговор был смягчён.
Абстрактное представление о сонете худосочно, это ему переводы обязаны одышкой, пресным языком и пятистопным ямбом для всех времен и народов. В ходячем представлении сонет - сама благовоспитанность; оттого-то переводы аккуратны, как консервы, а у поэтов - какое-то племенное сходство. А с какой, собственно, стати? Ни у латинян, ни у галлов нет такого единообразия, равно как и пятистопного ямба.
Эрнандес в переводах Якобсона - это десять сонетов и пять стихотворных размеров (ритмов, естественно, вдвое больше). Отсюда и полнозвучие. Музыка - в природе сонета, от нее он получил свое имя, и недаром в испанских песенниках Золотого века сонеты шли вперемежку с народными песнями.
У Якобсона почти неощутима техническая заданность. Суровые, горькие или жаркие, это прежде всего стихи, только строго организованные. Слово «чекан» как будто растворено в гулком звучании:
Как бык, порождён я для боли, и жгучим,
клеймящим железом, как бык, я отмечен.
Мой бок несводимым тавром изувечен,
мой пах наделён плодородьем могучим.
Как бык, не владею я сердцем гремучим, -
огромное сердце измерить мне нечем...
- не ритм, а калёное эхо деревенской кузни. И разве не чеканны сонеты "В каком-нибудь селении" или "Проходят по тропинке сокровенной"? Или "Смерть в бычьей шкуре"? Но какое при этом долгое и вольное дыхание! Стих не топчется, не раскачивается, чтобы в конце разразиться афоризмом, но движется четко и упруго, как боксёр на ринге.
Сам Якобсон лучшим считал сонет "Когда этот луч перестанет струиться", но, по-моему, втайне любил другой и даже иногда декламировал его - без малейшей распевности, скорее отрывисто, но как-то поднимая до мелодии. Тогда я не знал ещё, что в старину сонеты пелись.
Мягче и чуть архаичней остальных, этот сонет - самый воздушный из них и самый возрожденческий.
Вот лилия, проснувшись на холме,
свершила сокровенное усилье -
и распахнулись ангельские крылья,
слепящие, как молния во тьме.
- стоит точка, но фраза не глохнет, а парит в воздухе и вот уже подхвачена новой строфой:
А это значит, что конец зиме
- легкая дань Пастернаку, но для Эрнандеса, пастуха и книгочея, звучит естественно. И так же естественно великолепное завершение: «Лишь я стою один, заворожённый». Стих щелкает, цокает, журчит и влажно дышит молодой весенней тоской.
Таков средиземноморский сонет - он не строится, а льётся, и строфы распахнуты навстречу друг другу. Как удавалось Якобсону, не зная языка, слышать подлинник - для меня загадка.
И другая загадка. Из отобранных (собственноручно) сонетов он перевел две трети (может быть, чуть больше). Насколько помню, никакие внешние обстоятельства тогда не мешали. Так было не раз (и с Верленом тоже) - ощутив победу, бросал работу. Устал, соскучился? Или разочаровался? Но бывали работы заказные, по обязанности, и при том объёмистые; помню, как он переводил старинные испанские децимы, дидактические и отчётливо скучные, переводил с ненавистью - ворчал на усопшего классика: «Попадись он мне в руки на полчаса, я бы отучил его от стихов» - и всё же довел до конца. А с любимой работой происходило иначе. Действительно ли чувство удачи и облегчения расхолаживало его, а сделанное переставало радовать, или причина глубже? То, что зовётся вдохновением, для переводчика означает достижение свободы. Может быть, он избегал пользоваться уже достигнутым - и заподозрив, что движется по инерции, останавливался? Грань между поэзией и не-поэзией была для него гранью между правдой и притворством.
Так оно или иначе, одинаково грустно.
Есть область перевода, где достижение свободы фатально, а переводчик - по сути дела автор. Речь о стихах для детей. Хочется упомянуть и эти работы Якобсона - к сожалению, лишь упомянуть. Они затерялись в необъятной продукции "Детгиза", и отыскать их уже немыслимо, разве что выручит случай. Из того немногого, что он читал мне, помню лишь несколько строк (перевод, кажется, с чешского или словацкого не ручаюсь). Начальная строфа торжественно извещала, что пришла осень и, стало быть, пора играть свадьбы. Тут-то и началось
Кашель женится на каше,
Просто квак на простокваше,
Шпиль на шпильке,
Киль на кильке,
Клоп на клёпке,
Поп и т.д.
- брачная вакханалия набирала силу, куралесила, ритм озорничал и только к финалу движение, наконец, важно замедлялось:
Мякиш на макушке,
Кукиш на кукушке...
Но кукиш, увы, уперся в дошкольную цензуру, и печаталось без финала.
Мне страшно нравилось, а Якобсон тут же принимался объяснять, насколько всё это просто; берёшь корневые созвучия и так далее. Кому просто, кому наоборот.
Даже не знаю, где остались его детские стихи - в журналах или книжках (дарить переводы нам казалось тогда смешным). Но это одна из граней его переводческого дарования, как и само оно - лишь одна из граней его дара литературного. Ещё раз - не берусь гадать, в какой мере он отдавал себя переводу; понятно, что не целиком. Но в том, что отдавал себя не скупясь, загадки нет. Переводы - изначальная частица русской поэзии, молодой и неизменно чуткой к мировой культуре. А для Анатолия Якобсона русская поэзия была его пристанищем на земле.